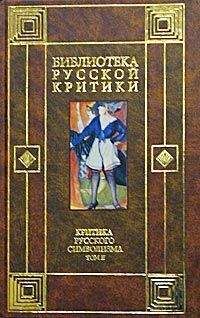Автор неизвестен - Журнал День и ночь
Симпозиум проходил сложно. Хоть все и улыбались друг другу и вместе поднимали вечером тосты за науку, угощали друг друга вишней, которую покупали в бумажных кульках на берегу, и купались в воде в спускавшейся с теплохода специальной большой сети, — тем не менее, шла борьба разных школ, и старик с улыбкой наблюдал, кто из тщеславия упирается, а кто убеждён в своей идее. А идей оказалось множество — может быть, даже гениальных, и хорошо, что на борту не было иностранных журналистов. Кстати, что ещё хорошо — теплоход нигде к берегу не приставал — желающих купить вишни или ранние яблоки перевозили на лодке.
Ходили всевозможные слухи о причине такой уединенности. Говорили о холере. Старик знал, в чём дело — на борту, среди семи иностранных гостей, лояльных и вызывавших доверие, плыл учёный из страны, где царила хунта. Он сюда выбрался нелегально, и если бы о его поездке в коммунистическую Россию стало известно, учёного бы ожидала дома тюрьма, а может, смерть. Покинуть же свою родину навсегда он не желал — надеялся на лучшие времена, да и, пользуясь положением видного физика, помогал своему народу. Его все звали, улыбаясь, товарищ Иванов, он был крепкий, белозубый, очень смуглый. Говорил, запинаясь, на эсперанто… Так или иначе, работа на теплоходе шла напряженная. Ничто не отвлекало, кроме, может быть, красных, разбитых арбузов, плывших по течению, — где-то покололи при загрузке или выгрузке.
Компьютеры нужны везде. Но на многих заводах и в совхозах, куда их привозят, они стоят мёртвым грузом. Как те же телевизоры или приёмники в кабинетах начальства, эвм стали модой. Их не включают — зачем? Есть счёты. Есть пальцы. Есть бабушкины методы. Есть наш родной, русский, махровый мат. А тут надо ещё программы составлять. а что это такое, знает один из тысячи. На перфокартах морковь не натрёшь. На релешках яичницу не поджаришь. А обходятся эвм очень дорого. Брать же их для красоты, для интерьера — стоит ли? Старик всё это прекрасно понимал. Он видел, что многие руководители предприятий отстали от века, и тут не помогут курсы повышения квалификации, которые зачастую придуманы их же друзьями, чтобы сохранить их в мягких креслах… и самим остаться как бы при деле прогресса! И никак ты не сгонишь и тех, и этих. А время. когда оно пройдёт, время? Сейчас каждые пять лет — это как раньше двадцать пять. И нужно, нужно внедрять компьютеры! Даже старые руководители, купив их для моды, для показухи, будут вынуждены привыкать к новому ритму, новым методам. То есть учёные, составляя программы, могут внести новый, неожиданный ритм в экономику, в мышление: Это же не секрет — фирма, изготовившая эвм, может в будущем знать все секреты той организации, которая купит эвм. Не говоря о том, что может исподволь влиять на жизнь дочерней организации. Секреты нам узнавать ни к чему — страна одна, своя. А вот заскорузлый бюрократизм станет первым врагом эвм. Старик понимал. Времена, слава богу, другие, есть постановления цк, и теперь-то никто уж не назовёт смелых и думающих своих сыновей буржуазными прихвостнями. А они через свои программы, не каждому краснобаю ясные, через свои эвм, через огромную, переплетённую общую систему компьютеров страны будут вносить энергию мысли, энергию наступающего времени. И никого машины не поработят, если не давать им застаиваться, покрываться пылью толщиной в палец.
Старик, усмехаясь, размешивал авторучкой сахар в стакане, и боль из души уходила, и лунный свет, казалось, впитывался всем телом, и он, старик, становился лёгким, как юноша. эвм — ладно. Он сейчас о старушке думает. Всё-таки это дни их торжества. И ей будет приятно.
Старик посмотрел стакан на свет и воровато оглянулся: ещё увидит кто-нибудь — подумает, одинокий алкоголик. Сунул авторучку пером в чернила и стал вращать головку. Чернил в стакане уменьшилось. Всё в порядке. Аккуратный старик пошёл, вымыл стакан, поставил на место в каюте. Жена спала. Он вернулся на палубу, взял ручку — кисть совершила привычный волнообразный жест, прежде чем взять предмет — промокнул бумажкой лишние чернила с пера и вздохнул. Всё было готово.
Сухой узкой рукой на белом листе он вывел:
Люся… — и прищурился. Что-то не блестит. Должно заблестеть. Он это точно помнил. Надо подождать, чтобы высохло.
Лунная ночь мерцала над необъятной рекой с тёмно-зелеными островами, белыми отмелями, чёрными лодками на берегах, и то ли ночные птицы летали над теплоходом, то ли летучие мыши. Миллиарды белых и розовых бабочек облепили фонарь в крупной сетке. Толстоголовые серые бабочки сели на белую рубашку старика, он чувствовал их неприятную тяжесть. Одна опустилась на лист бумаги — старик согнал её, и на бумаге остался тёмно-зелёный след.
Круглая, ясная луна словно ворожбу ворожила, сердце разрывалось при таком свете. А чернила ещё не просохли.
Он когда-то в детстве, в двадцатые годы, писал стихи. Стихи были плохие. Влюбился в девочку из женской группы, её звали, кажется, Люся Богомолова, толстая была девочка, румяная, с пышными косами. Старик улыбнулся. Он, помнится, сочинил ей стишки:
— Я тебя люблю! Я себя гублю! Я тебя гублю! Я тебя люблю!..
«Сколько рифм!» — радовался мальчик. Он бормотал без конца своё стихотворение и путался уже в «тебя», «себя». Надо бы о революции, о смерти Ленина, а он — позорно — о любви! Он записал строчки на бумаге и ходил неделю, обмирая от стыда и страха, никак не мог отдать. Когда же измял и замызгал листок до крайности, решил стихи красиво переписать. Была ночь. Конечно же, светил месяц. Мальчик опустился на сырую землю сбоку от крыльца — получалось, как за письменным столом. Дома все спали. В хлеву жевала сено и вздыхала корова. В темноте крапивы мелькнула, вытянувшись чуть не на метр, белая кошка. Он сидел и смотрел на лист бумаги. Днём ему сказал Костя-старшеклассник, под великим секретом, что, если в чернила добавить сахару, то буквы блестят, как золотые. Может быть, образуется золото. Косте об этом написал из города брат Володя, он там учится. Только нельзя, говорит, путать — сахар, а не соль. Ну, как спутаешь — все школьники знают, что если соли насыпать в чернильницу, получится грязная вода.
Мальчик развёл в чашке с чернилами сахар, обмакнул перо № 86 и стал писать:
— Я тебя люблю!!!!!!! Я себя гублю!!!!!!!!!!.. Месяц висел над самым забором. К ногам на
траву, на аптечную ромашку падала чёрная зубчатая тень. На белой бумаге сохли, сохли чернила и — вдруг загорелись, как чистое золото! На странице, если смотреть сбоку, сверкали буквы! У Сашки от восхищения потемнело в глазах. Он вскочил. Он держал листок в вытянутых руках, как сумасшедший. Он взбежал на крыльцо, но вспомнил — все спят. А может, разбудить, сестрёнке Ленке показать. И тут же испугался — во-первых, он бы разгласил секрет чернил, а, во-вторых, Ленка бы о любви узнала. Как ей докажешь, что это — просто стихи? А она ещё их запомнит, будет всю жизнь издеваться. Вот корова, наверно, ничего не запомнит, но оценит. Он метнулся в хлев — Зорька шумно дыхнула и посмотрела на него чёрными блестящими глазами. Он, утопая в соломе, подошёл к ней и с гордостью показал своё произведение. И сам заглянул сбоку. Здесь хуже было видно — но всё равно, что-то там сверкало золотое. Корова печально вздохнула и отвернулась, стала лизать бок.
«Эх ты, корова-корова… — с сожалением подумал мальчик. — Ну, ладно. Ты же неграмотная».
Наутро, на большой перемене, он передал письмо любимой девочке. Толстая Люся взяла его, лениво осмотрела выпуклыми глазами и хотела было развернуть.
— Не сейчас!… — пискнул он. — Дома…
— Что?! — громко спросила Люся. Может быть, нарочно громко.
— Дома… — краснея и сутулясь, сказал очень тихо долговязый мальчик в самодельном красном галстуке — он чувствовал насмешливые взгляды товарищей.
Люся сжалилась, спрятала листок в портфель. Через день подошла, взяла Сашку за руку, подвела к окну и стала серьёзно объяснять:
— Мои родители не согласятся. такие отсталые. Я прямо в рабстве каком. Луч света в тёмном царстве. Страдаю. Никто меня не понимает.
Он слушал и не слышал, что она говорит. Он видел перед собой солнце. Оно объясняло, что им нужно вырасти, доказать свою любовь, и тогда, может быть, родители смилуются… У него горели уши, ему было стыдно непонятно чего, он чесал ногою об ногу, и тут, к счастью, прозвенел звонок…
Тогда проходили Пушкина. Мальчик взял у соседа под партой тяжеленный том в золотисто-коричневом переплёте и принялся листать. И увидел — оду «Вольность». Стихи были напечатаны красивыми буквами, а рядом, на сером листке написаны рукой самого Пушкина! Мальчик догадался — это не настоящая бумага Пушкина, а фотография. Но всё равно он не мог этого так оставить. Он выпросил книгу почитать домой и осторожно, бритвой, под самый загиб, срезал грубый лист с прыгающим пушкинским почерком — вокруг каждого слова завитушка, как росток вокруг зерна.